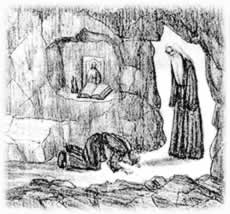Учитель и ученик
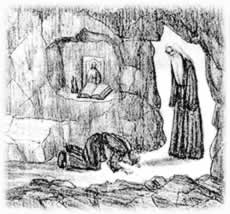 |
В египетской пустыне, недалеко друг от друга, спасались два инока. Время от времени они сходились и беседовали. Один из них был грамотный и имел Библию. Когда беседа иноческая случалась у него, он всегда читал пришедшему что-нибудь из Слова Божия.
|
Однажды после чтения пришедший задумался и долго ничего не говорил. Читавший спросил его:
– Что ты задумался, брат?
– Думаю, – отвечал спрошенный, – как ты счастлив, зная грамоту и владея Библией! Ты никогда не бываешь один. Случится, нападет на тебя тоска одиночества, ты берешь книгу Слова Божия, читаешь – и ты уж не один: с тобою говорит Господь. Я вот лишен этой радости: я не учился грамоте.
– За чем же дело стало? – сказал грамотный. – Времени у нас с тобой достаточно. Возьмемся за азы, обучишься чтению, и самому тебе тогда понятна станет книга Слова Божия!
Пришедший инок с благодарностью согласился. Решили не откладывать дела и начали сейчас же. Другой книги у инока-учителя не было, пришлось учить по Библии.
– С чего начнем? – спросил учитель. – Какую страницу станем разбирать?
– Начнем с самого главного. Ты знаешь, брат, главную заповедь Божию. Открой ее, ее и будем учить!
Учитель-инок раскрыл десятую главу Евангелия от Луки и стал читать, показывая и объясняя буквы: «Один законник встал и, искушая Его, сказал: „Учитель! что мне делать, чтобы наследовать Жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В Законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближ...“»
– Постой! – перебил инок-ученик. – На сегодня довольно. Повтори еще раз это!
Чтец повторил.
– Еще раз, – просил ученик.
Еще раз повторили.
– Спасибо! Пока довольно. Это я затвердил. Дальше потом.
Простился инок и ушел к себе в пещеру.
Учитель ждал его на следующий день – сосед не пришел; ждал другой день, третий, неделю – того все нет.
Пошел учитель проведать ученика, того и духу нет в пещере. Видно, куда-то ушел и ушел давно, даже остывший пепел на очаге разнесло ветром.
Подивился инок-учитель, вернулся домой, поскучал по товарищу, а потом пришел и поселился по соседству другой подвижник, за ним – третий, четвертый – и так, понемногу, учитель-инок забыл ученика.
Прошло десять лет. Сидел как-то оставшийся инок летним вечером у себя перед пещерой и читал Евангелие. Вдруг перед ним вдали показался путник. Подошел он ближе. Незнакомый. Длинная белая борода, изможденное лицо, впалые глаза. Все говорило о суровых подвигах молитвы, труда и поста. Поздоровались.
– Я к тебе, брат,– сказал пришедший. – Давай продолжать наше ученье!
– Какое? – удивился сидевший.
– А помнишь, мы начали с тобой чтение Слова Божия? Я приходил к тебе...
– Так это ты, брат?! – обрадовался инок-учитель. – Где же ты пропадал? Что ты ушел и не сказал ни слова?
– Я все учил урок. Помнишь, ты мне прочел: «Самая большая и первая заповедь: возлюби Господа Бога всем сердцем и всем разумением». Вот я старался все это время научиться любить Бога всем сердцем и душею. Сказать, что я уже выполнил все это, я еще не могу, но я все-таки кое-что усвоил. Теперь, брат, давай учить вторую половину заповеди, которую мы не дочитали тогда.
Сидевший вместо ответа встал и поклонился гостю до земли.
– Не мне тебя учить, а ты меня научил. Ты дал мне великий урок, что слово Божие надо читать не глазами, а сердцем, и что на уразумение воли Божией и на выполнение ее, по учению Христа Спасителя, надо отдать главное внимание и полное усердие всей нашей жизни. Оставайся же, брат, со мною и будем вместе, по-твоему, изучать Слово Христово.
И много еще лет прожили иноки вместе, много они времени провели за великой книгой – Библией, многое передумали и перечувствовали за ней. Много к ним приходило людей даже из дальних мест, и многих они доброму научили. Исполнилось над ними слово Спасителя: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 37–38).
Свящ. Г. ПЕТРОВ
Крестный путь, М., 1903.
«Трудно понимать, легче чувствовать...»

Святитель Афанасий (САХАРОВ),
1925 год
Неисчислимые богатства духовные, заключающиеся в нашем богослужении, в наших книгах церковных, в своем сочетании представляют дивную гармонию, заключены в чудную оправу священной поэзии. Здесь и величественные хвалебные гимны дивному и высокому, паче всех царей земных, Творцу и Промыслителю Богу. Здесь же за сердце хватающие, способные заставить плакать и зачерствелую душу скорбные элегии, покаянные вопли грешного человечества, на стране далече тоскующего об утраченном Отечестве. Богатство смысла и разнообразие содержания наших церковных песнопений облечено в изящные формы изложения, и сила мысли соединяется со стройностью и звучностью слова, с легкостью и красотой выражений.
А наш священный церковно-славянский язык?! Что ни говорите о его непонятности, о его устарелости, – никогда самая изящная литературная русская речь не заменит его красоты, его, если не грешно так сказать, чарующей красоты. Конечно, чтобы ощутить эту красоту славянского языка, нужно развить в себе особый вкус. Не всегда, может быть, поймешь эту красоту, не всегда сумеешь изложить чувства восхищения этой красотой, ее чаще можно только почувствовать сердцем.
То же, впрочем, нужно сказать и обо всем вообще нашем богослужении: его трудно понимать, легче чувствовать. Это и понятно. Что такое богослужение в своем существе, как не внутреннее общение твари с Творцом, глубоко интимная беседа души богоподобной с Самим Богом на том неизреченном языке, который слышал небошественный Павел на третьем небеси. Богослужение – это чистейшее созерцание, это как бы растворение души в Боге до забвения всего земного. Вся внешняя сторона богослужения, вся внешняя его обстановка – лишь среда, способствующая созданию именно такого настроения, помогая человеку земному и перстному, падшему и греховному, погруженному в заботы и житейские попечения, отрешиться, хотя бы на время, от уз плоти и земли, дабы он мог напитать свою душу, утешить ее величайшею для нее радостью богообщения, богосозерцания. И священные церковные песнопения, составляющие важнейшую часть нашего богослужения, имеют ту же задачу. И тогда, когда они указывают нам и уясняют высоты богословия, и тогда, когда раскрывают пред нами глубочайшие извилины нашей собственной души (которую, кстати сказать, мы сами-то уж очень худо знаем, а вернее, даже совсем не знаем), священные песнопения и молитвы преследуют одну цель – возвысить нас от земли к Небу, возвести на степень созерцания и богообщения, о чем, по слову апостола, человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 4).
Святитель Афанасий (САХАРОВ)
«Настроение верующей души
по Триоди Постной»